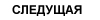Эдд
Я слышу, как он тормозит: медленно и устало, как тяжелый раскормленный бык с исходящими мутной испариной боками – он фырчит, исходит паром и фейерверком почти непереносимых выхлопных газов, потом плаксиво взвизгивают сопрано тормозов; он замирает, но не на совсем - в накатившей тишине разносится тяжелое дыхание разгоряченного мотора. Я несусь по дорожке стремительно, изо всех сил хочу успеть, старая обувка жалобно шаркает, видно, что левый кроссовок скоро запросит каши, в ушах остервенело орет
(Хи вона щущща хи га! Доу т капоутом хи га!)
Леннон и компания.
Я сбиваюсь с пути, как обычно теряю координацию и ноги на секунду пропахивают борозду в скорбных рядах дохловатых поникших, точно грудастые старые девы с иссохшими желтыми телами и брезгливыми лошадиными зубами, фиалок, влетаю на остановку, натыкаюсь на старый астматичный рекламный щит с желтым оборванным кружевом объявлений тридцатилетней давности, которым ни снег ни дождь не страшны, затем врезаюсь руками в бок автобуса, лакированный, поцарапанный и горячий, усталый, как у ломовой лошади, шиплю извинения бабулькам в тканых тыщу лет назад платочках, который срочно полезли во вместительные старушечьи ридикюли чтобы достать старые кое где треснутые очки (они и без того болтаются на морщинистых пятнистых черепашьих шеях) чтобы самолично лицезреть виновника спокойствия. Я встаю у двери, когда она шипит, фырчит и с долгим эхом-стоном захлопывается, все еще тяжело дыша, стаскиваю потрепанный футляр с плеч и ставлю на обувь, стараюсь не слушать лестных высказываний в стиле «Глаза разуй, недоумок!» или «Куда суешься, слепой придурок!», скалюсь мысленно, но крики
(Кам тугэзэ доунт кА ю кэн ай кэн тел ю би фри!!!)
заглушают все шепоты и пересуды, быстро сую руку в карман, выуживаю целое состояние гнутых медяшек, штук пятнадцать даже не рублевых - копеечных монеток, начинаю разбирать их, ловкими немного шулерскими пальцами скидываю в подол длинной серой рубахи одну за другой, я не смотрю на них, требуется одного прикосновения чтобы понять достоинство монетки (в основном 10 копеек) и кинуть ее в подол. Контролерша с оттопыренной слишком блескучей и влажной нижней губой, на которой металлическим гвоздем распятия мерцает пирсинг, лупоглазым долго-испытывающим наметанным взглядом и каплями пота на шоколадно-солярийном лице с лихо намалеванными (запах туши и киновари вкупе с запахом дешевых духов дает довольно отвратное, но и самобытное впечатление), наколкой на голой плечистой руке (что-то вроде ноток или глупых пошловатых цитаток, черепа, все ли равно) уже стоит на страже, верный одноглавый Цербер этого маленького Аида. Я копаюсь с монетками какое-то время, чувствую, как пот медленно стекает по ее губам, смешивается с помадой и отвратным пятном падает на некогда белую сальную майку, вручаю ей внушительную гору мелочи, мой Харон сопит и пыхтит разгоряченным чайником, потом с крайне недовольным видом она фыркает завершением своей нелепой увертюры и отходит, позвякивая моими монетками, чем выражает истовое раздражение.
Я поворачиваюсь к двери, на уровне моего носа кто-то налепил цветастую рекламу (букв, почти уверен, невозможно прочесть, если не владеете способностью разбирать почерк Леонардо), но никто не мешает мне созерцать запах и слышать вкус заметенного пылью и солнечными лучами асфальта, лопочущих что-то лицемерно-усталое лопастых листьев подрезанных плешивых белыми клочьями последнего пуха, как дешевого синтипона, тополей, но думаю я о
(Хи вона щущща хи га! Коука Коула хи сэ…)
другом.
Я сегодня сыграю этой потной татуированной мученице небольшую увертюру. Ей, маленькому харончику с нарисованными бровями и пирсингом на потной губе. Я уже почти представляю, как это будет выглядеть, как будет шуметь внизу, исчезая за мраморным поворотом, в облике гранитных монолитных рельс, в скорости и дыме подземки, ее образ, как люди, спешащие куда-то, все время спешащие, замрут на мгновение, чувствуя себе ее сущность. Замрут, а потом пойдут дальше, скажут себе, что подобную чепуху следует немедленно выкинуть из головы.
Я закрываю глаза, хочу сосредоточиться на других. Ей - минуты две, не больше, она будет лишь одной из тем сегодняшнего фонтана. Бабулька слева от меня тяжело со свистом дышит, слишком шерстистое вязание стонет в ее скрюченных артритом усталых пальцах, в ее глазах, устало слезящихся за толстыми дымными стеклами дальнозорких очков, плещется благородство старой маленькой цепной кудлатой собачонки, которая долго служила хозяйке, оглашая какую-нибудь зачумленную грязью и коровьим навозом полумертвую от жары и одуревшую от лета, деревенскую улочку победоносным глуповатым лаем, а сейчас сидит в пыли и выгоревшей траве, совсем одна. Лишь только влажный маленький носик, да седые ворсинки вокруг него, усталый взгляд умных собачьих глаз, капельки слез, которые дрожат там, в глубине, но навряд ли прольются…
Ее грустной истории я тоже найду свое место - она прозвучит, прозвенит сегодня. Кто есть еще?
Come together заканчивается взрывом плеерных оваций. Убавляю звук; сейчас хочется послушать ритмы их дыхания и разговоры – нити, которыми я затем сплету целую поэму. Только они об этом никогда не догадаются.
- …только девятого? Почему так поздно!? Нельзя, послушай, это же можно сделать и пораньше…
- Огурцыыы! Огурцы, Ленок, не забудь! Ох ты дылда окаянная я тя ща…
- …не ковыряй в носу, не прилично… На нас же люди смотрят!
- …твоя сестра! Ах, какая досада! Жаль она не приехала раньше!..
- …да, пятого на прием, да, мам, конечно…
Ухмыляюсь по себя. Ничего нового. Эти разговоры обыденны и скучны, как сама жизнь. Кнопочные телефоны, в которых шепчут хриплыми голосами старухи, плоские пиликалки, которые самозабвенно гладятся молодежью, все здесь пропахло серой пылью, как нигде. Но! Сколько всего можно узнать из ритмов голоса, из тембров разговора, из пошаркиваний, глухого кашля, монотонного стрекота двигателя, сухого инопланетного голоса объявляющего очередную станцию, гудков машин, исходящих повизгиванием и мигающих фарами, заплывшими давно засохшей на лакированных бортах грязью, мяуканья котенка…
В нос шибает запах гудрона и пота, видимо, тут делают новые трамвайные рельсы. Представляю себе рабочих, обливающихся потом, тяжелые блестящие на солнце, как золотая пуговица, шпалы, суровые мотки проводов, которые тащат в гору угрюмые столбы, белые флажки, цветастые каски… Все скрывается за поворотом. Что ж, и это впишем в сегодняшнюю программу. Интересно, кто-нибудь создавал что-нибудь про ведро с тягучим гудроном? Не про солнце, луну, любовь, шпалы, дорогу, и прочую заезженную колею, в которую соскальзывают неопытные мысли, как копыта недостаточно упрямого ишака на старую тореную дорогу, а про гудрон? Чем он не поэтичен?
Я нюхаю. Играть запахи, вот это я обожаю. Дышащий бензином и потом раскаленный автобус – это гениальное сосредоточение сотен запахов. Я пытаюсь различить самые тонкие нотки, запах полевой ромашки, плетеный резковатый - льна, запах детского шампуня, очищенного банана, старых жвачек… Я прохожусь непослушными пальцами по старым объявлениям, нахожу процарапанные в незапамятные доисторические времена ножиком «Вася любит Олю», рекламу «Конгрэнд корпорэйшн! Всегда низкие цены!» зубочисток, несколько мазков корректором (не иначе, как школьники), даже прощупываются с одухотворенно-саркастическим пылом инициалы «призрак бродит по Европе…».
Маленькая девочка с бледной, наверное, кожей и светлыми тонкими косичками хнычет, в ее слезах столько стрекозиной искренней печали, легкого полоумного стремления летать, наверное, веры в сказку… Ребрышки торчат наружу, от нее слабо пахнет рыбой, и грязью, немного - мочой, ломкие детские пальчики настойчиво и одновременно неуверенно тянутся к бабушкам и студентам, детские пальцы, сложенные горсткой.
Я наблюдаю за ней, хотя и стою спиной. Мне интересен ее тип, я хочу впитать все ее существо, запомнить каждую мельчайшую деталь, звуки уже начали тревожно стрекотать в голове, выражая эту детскую печаль.
Кто-то с жалостью, постыдной, неприятной для себя жалостью, кладет ей пару рублевых монеток, чтобы побыстрее выгнать ее из своего замкнутого благополучного мирка, чтобы забыть о нищете и бедах, о ней, но она продолжает стоять. Такая худенькая, что, кости, кажется, сейчас прорвут тонкую матовую кожу. Я достаю пару медяков из бездонного кармана, я всегда подаю, искать ее руку не приходится - она уже подставила ладошки горсткой, медяшки ударяются со звоном о другие монетки, такие жалкие и грустные, одинокие и нечастные в этом мире.
«Не плачь, малышка… Я подарю сегодня тебя миру.. Я создам тебя из воздуха и всем расскажу о твоей жизни, о твоих мыслях. Они не услышат, почти уверен, что не услышат, но разве это важно?!»
На следующей остановке она выходит.
Я хочу собраться с мыслями, побыть отдельно ото всех. Включаю плеер. На этот раз скорпы, Humanity
Про себя я шепчу припев,
(Е ра дроп ин зэ рэйн джаст э намбэ нот э нэйм…)
кричу и беснуюсь в такт этих звенящих в тишине нот,
(Бат ю дот тиэз ит! )
гремящих и стремительных,
(Ю донт белив ит!)
лесных и волнующих.
Будто кто-то ножом разрезает полог привычной жизни.
На следующей остановке я схожу. Спрыгиваю, как обычно, в пыль на трамвайные рельсы и через площадь, по запаху и памяти плетусь к метро. На площади царят пыль, солнце и рздавателя рекламных флаеров, которые с жалобно-сумасшедшей улыбкой подскакивают к любому прохожему, суют ему в руки свои бумажки, благодарят с таким видом, будто их спасли от смерти. Я играл их не раз, они находили отражение в чьих-то мыслях, но каждый раз по-новому. Нарочно застываю, беру цветастый буклет из протянутой руки девицы в кепке со спортивным потным лицом, усталыми бассетовскими глазами. Она шепчет мне
(Спасибо большое!)
как-то слегка пристыжено, словно извиняется передо мной за то, что меня могут увидеть в компании с ней. Ее глаза, наверное, блестят грустно и жалобно, блестят с затравленной безысходностью, липкие от пота кудрявые немного прядки светлых волос выбиваются из под фирменной красной кепки, на которой написано что-нибудь вроде «Магнат-шоколад каждый здесь вам будет рад!». Она оставляет свой буклет у меня в руке, и я бросаю ее со своим одиноким ярмом, а меня поглощает гудящая тьма подземелья.
(Хи вона щущща хи га! Доу т капоутом хи га!)
Леннон и компания.
Я сбиваюсь с пути, как обычно теряю координацию и ноги на секунду пропахивают борозду в скорбных рядах дохловатых поникших, точно грудастые старые девы с иссохшими желтыми телами и брезгливыми лошадиными зубами, фиалок, влетаю на остановку, натыкаюсь на старый астматичный рекламный щит с желтым оборванным кружевом объявлений тридцатилетней давности, которым ни снег ни дождь не страшны, затем врезаюсь руками в бок автобуса, лакированный, поцарапанный и горячий, усталый, как у ломовой лошади, шиплю извинения бабулькам в тканых тыщу лет назад платочках, который срочно полезли во вместительные старушечьи ридикюли чтобы достать старые кое где треснутые очки (они и без того болтаются на морщинистых пятнистых черепашьих шеях) чтобы самолично лицезреть виновника спокойствия. Я встаю у двери, когда она шипит, фырчит и с долгим эхом-стоном захлопывается, все еще тяжело дыша, стаскиваю потрепанный футляр с плеч и ставлю на обувь, стараюсь не слушать лестных высказываний в стиле «Глаза разуй, недоумок!» или «Куда суешься, слепой придурок!», скалюсь мысленно, но крики
(Кам тугэзэ доунт кА ю кэн ай кэн тел ю би фри!!!)
заглушают все шепоты и пересуды, быстро сую руку в карман, выуживаю целое состояние гнутых медяшек, штук пятнадцать даже не рублевых - копеечных монеток, начинаю разбирать их, ловкими немного шулерскими пальцами скидываю в подол длинной серой рубахи одну за другой, я не смотрю на них, требуется одного прикосновения чтобы понять достоинство монетки (в основном 10 копеек) и кинуть ее в подол. Контролерша с оттопыренной слишком блескучей и влажной нижней губой, на которой металлическим гвоздем распятия мерцает пирсинг, лупоглазым долго-испытывающим наметанным взглядом и каплями пота на шоколадно-солярийном лице с лихо намалеванными (запах туши и киновари вкупе с запахом дешевых духов дает довольно отвратное, но и самобытное впечатление), наколкой на голой плечистой руке (что-то вроде ноток или глупых пошловатых цитаток, черепа, все ли равно) уже стоит на страже, верный одноглавый Цербер этого маленького Аида. Я копаюсь с монетками какое-то время, чувствую, как пот медленно стекает по ее губам, смешивается с помадой и отвратным пятном падает на некогда белую сальную майку, вручаю ей внушительную гору мелочи, мой Харон сопит и пыхтит разгоряченным чайником, потом с крайне недовольным видом она фыркает завершением своей нелепой увертюры и отходит, позвякивая моими монетками, чем выражает истовое раздражение.
Я поворачиваюсь к двери, на уровне моего носа кто-то налепил цветастую рекламу (букв, почти уверен, невозможно прочесть, если не владеете способностью разбирать почерк Леонардо), но никто не мешает мне созерцать запах и слышать вкус заметенного пылью и солнечными лучами асфальта, лопочущих что-то лицемерно-усталое лопастых листьев подрезанных плешивых белыми клочьями последнего пуха, как дешевого синтипона, тополей, но думаю я о
(Хи вона щущща хи га! Коука Коула хи сэ…)
другом.
Я сегодня сыграю этой потной татуированной мученице небольшую увертюру. Ей, маленькому харончику с нарисованными бровями и пирсингом на потной губе. Я уже почти представляю, как это будет выглядеть, как будет шуметь внизу, исчезая за мраморным поворотом, в облике гранитных монолитных рельс, в скорости и дыме подземки, ее образ, как люди, спешащие куда-то, все время спешащие, замрут на мгновение, чувствуя себе ее сущность. Замрут, а потом пойдут дальше, скажут себе, что подобную чепуху следует немедленно выкинуть из головы.
Я закрываю глаза, хочу сосредоточиться на других. Ей - минуты две, не больше, она будет лишь одной из тем сегодняшнего фонтана. Бабулька слева от меня тяжело со свистом дышит, слишком шерстистое вязание стонет в ее скрюченных артритом усталых пальцах, в ее глазах, устало слезящихся за толстыми дымными стеклами дальнозорких очков, плещется благородство старой маленькой цепной кудлатой собачонки, которая долго служила хозяйке, оглашая какую-нибудь зачумленную грязью и коровьим навозом полумертвую от жары и одуревшую от лета, деревенскую улочку победоносным глуповатым лаем, а сейчас сидит в пыли и выгоревшей траве, совсем одна. Лишь только влажный маленький носик, да седые ворсинки вокруг него, усталый взгляд умных собачьих глаз, капельки слез, которые дрожат там, в глубине, но навряд ли прольются…
Ее грустной истории я тоже найду свое место - она прозвучит, прозвенит сегодня. Кто есть еще?
Come together заканчивается взрывом плеерных оваций. Убавляю звук; сейчас хочется послушать ритмы их дыхания и разговоры – нити, которыми я затем сплету целую поэму. Только они об этом никогда не догадаются.
- …только девятого? Почему так поздно!? Нельзя, послушай, это же можно сделать и пораньше…
- Огурцыыы! Огурцы, Ленок, не забудь! Ох ты дылда окаянная я тя ща…
- …не ковыряй в носу, не прилично… На нас же люди смотрят!
- …твоя сестра! Ах, какая досада! Жаль она не приехала раньше!..
- …да, пятого на прием, да, мам, конечно…
Ухмыляюсь по себя. Ничего нового. Эти разговоры обыденны и скучны, как сама жизнь. Кнопочные телефоны, в которых шепчут хриплыми голосами старухи, плоские пиликалки, которые самозабвенно гладятся молодежью, все здесь пропахло серой пылью, как нигде. Но! Сколько всего можно узнать из ритмов голоса, из тембров разговора, из пошаркиваний, глухого кашля, монотонного стрекота двигателя, сухого инопланетного голоса объявляющего очередную станцию, гудков машин, исходящих повизгиванием и мигающих фарами, заплывшими давно засохшей на лакированных бортах грязью, мяуканья котенка…
В нос шибает запах гудрона и пота, видимо, тут делают новые трамвайные рельсы. Представляю себе рабочих, обливающихся потом, тяжелые блестящие на солнце, как золотая пуговица, шпалы, суровые мотки проводов, которые тащат в гору угрюмые столбы, белые флажки, цветастые каски… Все скрывается за поворотом. Что ж, и это впишем в сегодняшнюю программу. Интересно, кто-нибудь создавал что-нибудь про ведро с тягучим гудроном? Не про солнце, луну, любовь, шпалы, дорогу, и прочую заезженную колею, в которую соскальзывают неопытные мысли, как копыта недостаточно упрямого ишака на старую тореную дорогу, а про гудрон? Чем он не поэтичен?
Я нюхаю. Играть запахи, вот это я обожаю. Дышащий бензином и потом раскаленный автобус – это гениальное сосредоточение сотен запахов. Я пытаюсь различить самые тонкие нотки, запах полевой ромашки, плетеный резковатый - льна, запах детского шампуня, очищенного банана, старых жвачек… Я прохожусь непослушными пальцами по старым объявлениям, нахожу процарапанные в незапамятные доисторические времена ножиком «Вася любит Олю», рекламу «Конгрэнд корпорэйшн! Всегда низкие цены!» зубочисток, несколько мазков корректором (не иначе, как школьники), даже прощупываются с одухотворенно-саркастическим пылом инициалы «призрак бродит по Европе…».
Маленькая девочка с бледной, наверное, кожей и светлыми тонкими косичками хнычет, в ее слезах столько стрекозиной искренней печали, легкого полоумного стремления летать, наверное, веры в сказку… Ребрышки торчат наружу, от нее слабо пахнет рыбой, и грязью, немного - мочой, ломкие детские пальчики настойчиво и одновременно неуверенно тянутся к бабушкам и студентам, детские пальцы, сложенные горсткой.
Я наблюдаю за ней, хотя и стою спиной. Мне интересен ее тип, я хочу впитать все ее существо, запомнить каждую мельчайшую деталь, звуки уже начали тревожно стрекотать в голове, выражая эту детскую печаль.
Кто-то с жалостью, постыдной, неприятной для себя жалостью, кладет ей пару рублевых монеток, чтобы побыстрее выгнать ее из своего замкнутого благополучного мирка, чтобы забыть о нищете и бедах, о ней, но она продолжает стоять. Такая худенькая, что, кости, кажется, сейчас прорвут тонкую матовую кожу. Я достаю пару медяков из бездонного кармана, я всегда подаю, искать ее руку не приходится - она уже подставила ладошки горсткой, медяшки ударяются со звоном о другие монетки, такие жалкие и грустные, одинокие и нечастные в этом мире.
«Не плачь, малышка… Я подарю сегодня тебя миру.. Я создам тебя из воздуха и всем расскажу о твоей жизни, о твоих мыслях. Они не услышат, почти уверен, что не услышат, но разве это важно?!»
На следующей остановке она выходит.
Я хочу собраться с мыслями, побыть отдельно ото всех. Включаю плеер. На этот раз скорпы, Humanity
Про себя я шепчу припев,
(Е ра дроп ин зэ рэйн джаст э намбэ нот э нэйм…)
кричу и беснуюсь в такт этих звенящих в тишине нот,
(Бат ю дот тиэз ит! )
гремящих и стремительных,
(Ю донт белив ит!)
лесных и волнующих.
Будто кто-то ножом разрезает полог привычной жизни.
На следующей остановке я схожу. Спрыгиваю, как обычно, в пыль на трамвайные рельсы и через площадь, по запаху и памяти плетусь к метро. На площади царят пыль, солнце и рздавателя рекламных флаеров, которые с жалобно-сумасшедшей улыбкой подскакивают к любому прохожему, суют ему в руки свои бумажки, благодарят с таким видом, будто их спасли от смерти. Я играл их не раз, они находили отражение в чьих-то мыслях, но каждый раз по-новому. Нарочно застываю, беру цветастый буклет из протянутой руки девицы в кепке со спортивным потным лицом, усталыми бассетовскими глазами. Она шепчет мне
(Спасибо большое!)
как-то слегка пристыжено, словно извиняется передо мной за то, что меня могут увидеть в компании с ней. Ее глаза, наверное, блестят грустно и жалобно, блестят с затравленной безысходностью, липкие от пота кудрявые немного прядки светлых волос выбиваются из под фирменной красной кепки, на которой написано что-нибудь вроде «Магнат-шоколад каждый здесь вам будет рад!». Она оставляет свой буклет у меня в руке, и я бросаю ее со своим одиноким ярмом, а меня поглощает гудящая тьма подземелья.
Дина Бурсакова, 16 лет, Новосибисрк
Рейтинг: 3
Комментарии ВКонтакте
Комментарии
Добавить сообщение
Связаться с фондом
Вход
Помощь проекту
 |
Сделать пожертвование через систeму элeктронных пeрeводов Яndex Деньги на кошeлёк: 41001771973652 |