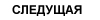Просто море
Впереди все напоминают пчел. Обстриженные тополя как какие-то неведомые животные повисли на проводах, устало шевелят листьями в тяжелой растертой между пальцами и развеянной по ветру жаре. Засохшая красная глина на подошве кед, я нюхаю воздух - тягучий и долгий, пахнущий гудроном, над головой перечерчивающие размытую акварель неба решетки обвисших проводов. За них зацепляются дугами троллейбусы и трамваи и катятся как по небу, как на ощупь.
Полосатая зебра светотеней, разбитые кем-то пыльные окна и бессмысленно-дикие граффити на стенах. Машины исходят паром и свистом, как будто стадо разъяренных быков, (на солнце сияют сверкающие или заляпанные засохшей грязью крупы, лоснящиеся холки, бамперы как наточенные до остроты кинжала рога) несутся через мост, ведомые одним знакомым невидимым пастухом. Кажется, мне уже начинает нравится.
Включаю на старом разбитом смартфоне Nothing else matter и пытаюсь немного пошагать в такт. Довольно легко - через каждую музыкальную паузу шаг, на каждый такт (после громогласного «ду») занос ноги и снова шаг.
Нэвэ кэ фор вот ви ду!!!!
Меня обгоняет какая-то рыжая девушка в полупрозрачной шифоновой юбке с коляской из зеленого материала.
Нэвэ ко фо вот ви ноу-у-у!!!
Дите валяется за белыми «противокомариными» стеками и щурится на солнце. Щеки отекли, ему, видимо, жарко. Мамаша слушает музыку и периодически пинает коляску стоптанными босоножками. Скоро их догонят папаша с зажатой подмышкой бутылкой теплой минералки. У него выпирающий кадык, безукоризненно лежащие набок волосы с ошметками перхоти, пропотелая по позвоночнику и под мышками футболка, походка как у заправского кавалериста. Не знаю, что такое она там слушает, но точно не металлику - словно специально пытается не попадать в такт. Колоритная парочка. Солнце полощет их затылки, рельефы рук, туловищ и ног в золотистой собственного приготовления кашице из пыли, асфальта и янтаря, означающей предвосхищение заката. Мне нравится шаркающая походка рыжей, хотя она определенно крашеная. Может, она будет похожа на Лену? Может, я наконец-то ее нашел?! Хочу составить себе первое о них впечатление.
Убавляю голос металлики, захожу им в тыл (ее рыжая маковка макушки пылает закатом, как у какой-нибудь старинной белокаменной церкви).
Они останавливаются. У ее мужа почти нет подбородка, и нижняя губа нависает над ним, что, по идее, должно создать некое плаксивое выражение, но не создает, на вид вполне уверенный, на голове перхотный хохолок, что-то индюшачье в его облике, слабо читаемое. Он окинул меня одним взглядом (целиком, от макушки до стоптанных кед подметающего асфальт клеша джинсов), и, словно убедившись, что опасность (да заодно и конкуренцию) я навряд ли представляю, лениво снизошел с высот своего собственного (можно даже сказать персонального) маленького огороженного зеленым забором с колючей проволокой Олимпа. Спросил:
- Что вам?
- Зажигалки не найдется?
Он ищет зажигалку по карманам. Недовольный, чуть ли не шипящий, она наполовину испуганно наполовину встревоженно отводит за ухо прядь рыжих волос. Слишком натренированным глазом я скольжу по ней. Словно фотографирую. Впитываю в себя каждую черточку немного грустного капризного лица, конопатые веснушки на левой щеке, небольшой синяк на правой (он ее бьет?), в глазах искорки заката, не накрашенные, от нее пахнет слабой туалетной водой, жвачкой, потом, озадаченная.
Дитя (при зеленой коляске почти невозможно определить пол существа, содержащегося в ней) с дружелюбностью Цербера скалится на меня беззубыми розовыми мясистыми деснами и жмет кулачки. Заодно срисовываю и его тоже. Я не планировал, чтобы у Лены был ребенок, но если он есть, то не надо списывать его со счетов.
Муж достает зажигалку (простую пластмассовую, такую можно купить в любом киоске за пятнадцать рублей). На ней, словно в каком-то полицейском депо, запечатлены отпечатки жирных от пота пальцев. Я добываю из кармана джинсов сомнительно скорченную из газетной бумаги сигарету, неспеша зажигаю ее, раскуриваю. Выдыхаю ароматный такой вкусный дым, в висках немного попискивает, словно кто-то по ним молоточком постукивает. Жду реакции. Она выглядит такой же озадаченной, словно она рассказывала что-то поразительно интересное, а потом ее прервали на полуслове. Он немного отшатывается от моей травки, на лице гримаса брезгливости, готов зажать нос от запаха. Наверняка, возьмет зажигалку из моих грязных рук платком, который обязательно найдется в кармане у такого чистюли и дома выкинет зажигалку в мусорку. Потом отмоет руки в раковине тщательно побрызгав их жидким мылом, словно подержался за бешеную собаку.
- Не хотите? Вы же уже не кормите, значит можно. – Я протягиваю сигарету после первой затяжки рыжей девушке. Она испуганно косится на мужа, как собака, спрашивающая у хозяина разрешение взять кость. Ее муж все еще разыгрывает пантомиму, потому не видит ее взгляда. Да, теперь я уже почти уверен, что он ее поколачивает.
Испуганно берет, как человек, ни разу в жизни не куривший, тем более травку. Да, она похожа на собаку. На рыжего сеттера с длинной вытянутой мордой, внимательными вечно настороженными глазами янтарного цвета. Она пытается затянуться и кашляет. Это не из-за меня она попыталась. Это акт неповиновения.
- Лена! – И смотрит с такой укоризной, словно она только что взяла руками собачье дерьмо.
Меня чуть встряхивает, будто от статического электричества. Я угадал. Интуитивно угадал, что ее зовут Лена.
- Что, Петя? Что? – В голосе вызов. Слабый, но вызов. Я смешиваюсь с асфальтом и вечерними косыми тенями, молчу и рассматриваю себя в битом окне. Я довольно неплохо умею сливаться с поверхностью.
- Ты сама знаешь, что. Отдай ему Это (прям с большой буквы) и пойдем скорее. Ты только недавно закончила кормить!
- Что, Петя? Почему я не могу выкурить сигарету, если мне ее дали?
- Ты же знаешь, что это Очень (тоже с большой буквы) вредно!
Лена откидывает волосы со лба, они у нее ломкие, как солома и отчаянно рыжие.
- Так позволь мне сделать хоть раз в жизни что-нибудь Очень (подражает ему) вредное! – Пытается закурить снова, кашляет и снова пытается. Ее профиль вырезан из жёлто-оранжевой бумаги и наклеен прямо на ее лоб, щеки, нос и подбородок.
Петя что-то раздосадовано мычит. Хотя нет, может, он ее и не бьет. Слишком правильный. Слишком выхолощенный.
Лена курит мою сигарету, давит в себе кашель и снова курит, держа ее между средним и безымянным пальцем, как девушки в старых фильмах.
Я протягиваю Пете зажигалку. Он бормочет, вытирая взмокшие ладони о шорты:
- Оставьте себе.
Я повторяю эту фразу Лене, точно это какой-то безвкусный обмен любезностями и больше ничего. Я начинаю думать строчками. Со мной такое иногда случается, когда сюжет складывается прямо здесь, на месте.
- Вы не пройдетесь? Я бы показал вам парк. - Говорю Лене. Судорожная надежда, что она согласится. Но на лице у меня выражение скучающей лени.
Лена думает какое-то время, солнце полощется на шее. Течет под ее кожей, как божественная кровь из Древнего Египта. Колючие ключицы.
- А почему бы и нет? Довезешь Катеньку домой, спать уложишь. Да, Петя? Хоть это ты можешь сделать?
Петя задышал долго и сопяще, как боевой носорог, и, кажется, готов был растерзать меня и Лену взглядом. Но не сказал ничего. Подхватил коляску и покатил ее вверх по дороге. Лена осталась в нерешительности рядом со мной.
Я молча медленно пошел вслед за ее Петенькой. Она не забегала вперед. Но шла на порядочном отдалении. Пыталась курить. Потом, сообразив, отдала сигарету мне. Она дымилась в руке, больше мне не хотелось курить. На мосту трамвайные рельсы выполаскивало солнцем. Машины расплескивали окрашенную красным жидкость, которой только что мыли мост. Словно солнечная рвота. Я говорю об этом Лене.
- Правда?
Далеко впереди Петя пинает коляску. Мы идем молча и плещемся в солнце. Мы сгораем где-то внутри него, и оплавляемся до головешек. Внизу кипят клены и асфальт. Старый пыльный и растрескавшийся асфальт кипит.
Лена спрашивает, прикрывая рукой глаза от слепящего солнца:
- Вы кто?
- Час Бёрдон
- А кто это?
Я щурюсь на солнце и включаю для нее The house of rising sun. Она слушает сосредоточенно, словно ее заставляют написать сочинение по песне. Мы проходим почти весь мост. Потом под нами грохочет товарняк. Лена слушает. Я представляю, на каком сейчас она куплете, и тушу пальцами сигарету с травкой, после чего кладу ее обратно в карман.
Лена спрашивает:
- А про что они поют?
- Про Новый Орлеан.
- Это где-то в Америке, верно?
Я киваю.
Солнце полощет свои простыни где-то над нами. Брюха позолоченных крокодилов, мерно проплывающих над нашими головами, как диковинные аэростаты, обрызганы разведенным сусальным золотом. Когда песня заканчивается, она мне возвращает проигрыватель. На ее лице написано небольшое смущение наполовину непониманием и желанием не показаться невежливым. Я понимаю для себя одну важную вещь - она стесняется того, что не поняла.
- Кажется, они поют на английском, да? Я учила в школе, но это было поверхностно и довольно давно…
Сколько ей лет? Двадцать два? Двадцать три? Я вижу в тени на оголенных плечах темный загар по рукава футболки.
Я не знаю этого. Мы идем оставшийся промежуток дороги пешком. Я смотрю перед собой, каждой частичкой своего тела отмечая особенности ее походки, чуть косую левую коленку, наманикюреные пальцы в плоских босоножках, немного костлявые лодыжки, несколько родимых пятен на правом локте.
- Вы отдыхаете? – Вопрос как бы с украдкой. Тоже не смотрит на меня, поглощена замысловатыми хитросплетениями линий на асфальте.
Отрицательно мотаю головой.
- Странно, вы не похожи на местного. Ну, прям совсем, совсем не похожи.
- Почему?
- Не знаю. Просто не похожи. Есть в них какое-то наполовину чванливое неудовольствие к отдыхающим. А у вас этого нет.
Она заводит прядь за ухо, с запястья ближе к локтю сползает тесемка с нанизанными на нее маленькими ракушками и яблочными косточками. Это сделал для нее, определенно, не Петя.
- Знаете, как выглядит наш домохозяин, у которого мы с Петей комнату снимаем? Страшный! Руки обвиты якорными веревками вен, кожа красная-красная, морщины, кажется, забились песком – ну, знаете, как трещины в сухой-сухой земле, когда долго дождя не было. Жарит что-то на очень плохом жире, вонь стоит на всю квартиру. Отдыхающие - еще две семьи кроме нас - постоянно жалуется. А ему хоть бы хны. Продал нам собственновырощенный арбуз: «Берите, не пожалеете, у нас и вино есть - вам какое?», а потом Петеньку рвало долго, хорошо, мы с малышкой не пробовали… Но корочка- это сочетание хруста и зелени, полосатость странная, как кошка, свернулся клубочком на столе… у нас в комнате такой замечательный верстак – на нем стоять можно. Вещи класть. И как письменный стол, и доска для глажки…Смешливый, правда, до страха!
- Кто, верстак?
- Да нет же, какой вы непонятливый, хозяин!
Она смеется шорох песка и камешки, прекрасные голые камешки. Зацелованные нежными, как лошадиные губы, морскими волнами. И продолжает.
- Специально хожу на веранду послушать его каждый вечер – знаете, стемнеет быстро, хоть глаз выколи. Красные цветы в темноте фиолетовые, шуршит что-то вдалеке, стрекочет цикады: переругиваются между собой и рассказывают последние сплетни. А звезды! Спорю, вы никогда таких звёзд не видели - куча улиток, насобранных в банку с капусты! Все рожки повысунули, шевелят - довольные. Сверкают. На веранде – старой, замшелой, просторно, виноград плетется, усатый, мохнатый, жаль есть нельзя - кислый, страх! Шезлонги тоже старые, замурзанные, но до чёртиков удобные. Он анекдоты рассказывает и страшные рассказы. Рассказы из серии кто, с какой скалы сиганул от любви, кто-то там в медведя превратился. Гигантского медведя – представляете?! А анекдоты… я, кстати, знаю один: пришли в одно кафе грузин, русский и еврей…
Она снова смеется – снова камешки по песку. Шуршала и звенела своим серебряным, колокольчиковым смехом. Конец анекдота я так и не слышу – она заливается. Как гейзер кипяченой водой – солнце полощется в волосах. В шифоне ее юбки, в нарисованных линиях бровей, капает с кончика носа, по ключицам течет медовой рекой.
Необычно она рассказывает, как ребенок - заливисто и взахлеб, с какими-то странно-прелестными неологизмами - шероховатыми и приятными.
- Кем вы работаете? - Как бы невзначай, как был отголоском. Но я удачно вставляю свою фразу:
- Разношу фрукты. А подрабатываю Господом Богом.
Огорошиваю. Как кривой саблей по воздуху - и дальше иду, слушаю ее изумление. Зацепится или нет? Должна зацепиться.
- Шутите? Нет, сразу так и скажите, если шутите. Или нет. Молчите, я догадалась - вы биолог, да? Белым мышкам хвостики отрезаете? Фу, как вам не стыдно?!
- Я не биолог,- пытаюсь, чтобы выглядело более или менее загадочно. Она смеется снова.
- Вы секретный агент? Тут по заданию ЦРУ? Только молчите - я никому не расскажу вашей тайны!
Я наслаждаюсь всеми извержениями, всеми капелями и летним дождем Лены. Моей Лены. Каждую секунду я узнаю о ней – что новое, что-то, о чем никогда даже догадываться не мог раньше. Нет - оно кружилось тут, где-то в подсознании - сделает шажок изящной туфелькой на границу понимания и тут же снова спрячется - и улыбается так. Хитрит.
- Я писатель.
Она словно смакует мою фразу. Пробует ее кончиком языка. Взвешивает, но всего одно мгновение. Потом снова – камешки по песку:
- Больше ничего не говорите! Вы несчастны и ищете удовольствий! Да! У вас была несчастная любовь! Она была старше вас, не замечала ваших чувств. Она ушла к другому или умерла. Для вас это одно и то же. Вы пишете в стол, вы уже создали что-то вроде Войны и Мира, но издатели отказали вам. Поэтому вы приехали сюда, разносите фрукты и подрабатываете официантом в придорожных кафе, а по вечерам ходите пешком от моря к поезду, по автомобильной магистрали. Ловите людей, в надежде, что они вас вдохновят на создание чего-нибдуь столь же восхитительного. Да? Но ничего не происходит. И вы бредете, облепленный грустным закатом назад. От вокзала к морю. Правильно, я угадала?
- Нет. Но вы продолжайте рассказывать.
Мы бредем по асфальту, вокруг – бесконечные ряды персиковых деревьев. Взрывающихся от переполнявшего их голые втеки солнца, только самые зеленые плоды покачиваются на ветках, довольные и самодостаточные. Даже они исходят багровым пенящимся соком. Вдалеке солнце в облике огнедышащего дракона разметает по всему горизонту синих спрутов. Потом их самозабвенно сжирает, улыбаясь, оно шевелят щупальцами и противятся гибели, а солнце побеждает и довольно медленно тлеет оранжевыми угольками, выпивая по соломинке закипающее море.
Лена говорит о старинных легендах, которые всегда наводили на нее трепет. Душевный: «Знаете, как мнительной маленькой мышке рассказывают о зверствах кота, живущего в другом подъезде», почти сладострастный, почти на грани удовольствия, ужас. Солнечный дракон запутывается в ее волосах, и раздосадованный. Уползает оттуда, оставляя за собой целый шлейф дотлевающих угольков, которые немедленно обращаются в дымчато-синих китов. Те кружат в золотящихся по ка прядях какое-то время, как морские коньки вокруг водорослей. Потом обращаются в улиток и утекали по ее плечам в асфальт. Прячутся.
Небо уже вовсю зажигает огни светлячков, перемигивающихся со звездами. Начинают трещать заунывные цикады (готовы, значит, к спариванию и ищут себе пару). День умирает в мучительных судорогах, заполняя небо ядовито-синим парализующим газом ультрамарина. На западе открывается пара червоточин, досасывающих в себя остатки огненных угольков. Шумят диссонансом прохладной и томительно-душной тенью персики. Вдалеке белеет напряженно - стесненная спина Пети, толкающего перед собой коляску. Воздух дрожит, как будто наглотался угарного газа, как тогда, когда огонь заставляет ленивый воздух трепетать прозрачными бурливыми ленточками, поднимаясь все выше и выше. Только гудения - характерного гудения не хватает.
Мы следуем к морю - синяя лента. Голубая. Белая лента. Потом снова синяя – кто-то их заботливо прогладил утюгом, (старинным таким, в который угли раньше клали) небо - гигантская гладильная доска. Соседние скалы, удрученно падающие в море - это утюги. Швейной иглой трепещут на горизонте легкие дымки. Я говорю об этом Лене. Она слушает. Поджав губы (совсем как ноги, когда сидит на стуле). Смакует. Или притворяется.
По дороге к поселку мы расстаемся. Она не торопится догонять Петеньку. И танцует. То маленькие шажки (семенит балетная ножка, закованная в пуантовый гипс), с неуклюжестью болотной цапли. То резкий мах ногой и пируэт. Интуитивные движения руками - изгибы запястий. Локтей. Предплечий. Плеч, - как будто волны. Она занималась раньше балетом? Движения танго. Заученная схема шагов, расплесканная по ногам юбка, холщовое покрывало недвижных волос. Знает ли она. Что я наблюдаю? Если знает - то это для меня. Если нет…
В ту ночь я не сплю. Я сижу на берегу, смотрю. Как море чернеет, представляю, как она сидит на веранде этого хозяина. Задумчиво подпирая запястьем подбородок, качается в старом шезлонге. А вокруг лампочки крутится броуновское движение мошек и ночных мотыльков. В их номере (небольшой комнатке, одна стена из которой покрыта плешивым ужасающе прекрасным ковром с повылезшей шерстью, вместо двери – тяжелая ткань с восточными мотивами, лампочка без абажура под потолком, две кровати и термиты, подтачивающие само бытие) нервно нарезает круги Петечка. В руках - газета, он ее будто читает. Но думает о Лене. И недоволен ею. Футболка обжала мускулистые предплечья, почти до гинекологического состояния. Мускулы бугрятся, ребенок устал и спит в свой коляске. Над этой лампочкой - тоже шлейф из золотистых мошек, крутящихся вокруг нее каждая в своем ритме.
Я не буду сегодня спать - на пальцах подрагивают будущие слова. Которые так же (ее полу танец полу откровение на дороге - маленькие неловкие шаги на загипсованных пуантах) то покажутся из подсознания, то снова спрячутся. Я нашел Лену. Впервые за полгода я нашел Лену.
Я не написал ни буквы за прошедшую ночь. Лена - такая жива и такая будоражащее прекрасная просто танцевала в моем воображении. Она молчала и лишь… Полотно юбки, расплесканные волосы. Я не мог вспомнить ее лицо. А писать о ней, не помня лица - я не мог так. В три утра, когда в море закипел, заворочался гигантский медведь, стряхнул со своей спины остатки ночной дрёмы, оглушительно зевнул (рокот пронесся над морем, как боевой клич, и прокатился по соседним скалам) и стряхнул со своей толстой водяной шкуры глубокую южную прохладно-томительную черноту, я забрался к храму. Если честно - мое излюбленное место в такие-вот ночи. Просто на скале останки старинных дорических почти греческих колонн - чья-то вилла девятнадцатого столетия. Не подлежащая реставрации. Сюда с туристов берут входную плату - сто или двести рублей, они фотографируются (через белый мрамор, увитый плющом, брызжет солнце, облитые синей краской небеса) у колонн, рядом с пышно наряженными герцогами и баронессами, подрабатывающими местными, одетыми в старинные костюмы, попугаями, обезьянками, и покупают сувениры. Кто-нибдуь обязательно утащит с собой белый мраморный камешек на память. Им же невдомёк, что сюда каждую субботу рано утром завозят и раскидывают камни с ближайших дорог. Такая уловка для туристов. Разумеется, в четыре утра я тут сижу бесплатно. Подо мной тихо вздыхает море. Вздыхает полной грудью, окаймленной пенистым кринолином кружев, маслинно-черное у берегов, растекается почти к бирюзовому к месту слияния с небом. Небо дрожит, - медведь же ворочается, как туго натянутая струна арфы. На небе начинают тихо гаснуть звезды - скромно поднимают полог мироздания, и, неслышно топая в безвестности, уходят со сцены.
Полосатая зебра светотеней, разбитые кем-то пыльные окна и бессмысленно-дикие граффити на стенах. Машины исходят паром и свистом, как будто стадо разъяренных быков, (на солнце сияют сверкающие или заляпанные засохшей грязью крупы, лоснящиеся холки, бамперы как наточенные до остроты кинжала рога) несутся через мост, ведомые одним знакомым невидимым пастухом. Кажется, мне уже начинает нравится.
Включаю на старом разбитом смартфоне Nothing else matter и пытаюсь немного пошагать в такт. Довольно легко - через каждую музыкальную паузу шаг, на каждый такт (после громогласного «ду») занос ноги и снова шаг.
Нэвэ кэ фор вот ви ду!!!!
Меня обгоняет какая-то рыжая девушка в полупрозрачной шифоновой юбке с коляской из зеленого материала.
Нэвэ ко фо вот ви ноу-у-у!!!
Дите валяется за белыми «противокомариными» стеками и щурится на солнце. Щеки отекли, ему, видимо, жарко. Мамаша слушает музыку и периодически пинает коляску стоптанными босоножками. Скоро их догонят папаша с зажатой подмышкой бутылкой теплой минералки. У него выпирающий кадык, безукоризненно лежащие набок волосы с ошметками перхоти, пропотелая по позвоночнику и под мышками футболка, походка как у заправского кавалериста. Не знаю, что такое она там слушает, но точно не металлику - словно специально пытается не попадать в такт. Колоритная парочка. Солнце полощет их затылки, рельефы рук, туловищ и ног в золотистой собственного приготовления кашице из пыли, асфальта и янтаря, означающей предвосхищение заката. Мне нравится шаркающая походка рыжей, хотя она определенно крашеная. Может, она будет похожа на Лену? Может, я наконец-то ее нашел?! Хочу составить себе первое о них впечатление.
Убавляю голос металлики, захожу им в тыл (ее рыжая маковка макушки пылает закатом, как у какой-нибудь старинной белокаменной церкви).
Они останавливаются. У ее мужа почти нет подбородка, и нижняя губа нависает над ним, что, по идее, должно создать некое плаксивое выражение, но не создает, на вид вполне уверенный, на голове перхотный хохолок, что-то индюшачье в его облике, слабо читаемое. Он окинул меня одним взглядом (целиком, от макушки до стоптанных кед подметающего асфальт клеша джинсов), и, словно убедившись, что опасность (да заодно и конкуренцию) я навряд ли представляю, лениво снизошел с высот своего собственного (можно даже сказать персонального) маленького огороженного зеленым забором с колючей проволокой Олимпа. Спросил:
- Что вам?
- Зажигалки не найдется?
Он ищет зажигалку по карманам. Недовольный, чуть ли не шипящий, она наполовину испуганно наполовину встревоженно отводит за ухо прядь рыжих волос. Слишком натренированным глазом я скольжу по ней. Словно фотографирую. Впитываю в себя каждую черточку немного грустного капризного лица, конопатые веснушки на левой щеке, небольшой синяк на правой (он ее бьет?), в глазах искорки заката, не накрашенные, от нее пахнет слабой туалетной водой, жвачкой, потом, озадаченная.
Дитя (при зеленой коляске почти невозможно определить пол существа, содержащегося в ней) с дружелюбностью Цербера скалится на меня беззубыми розовыми мясистыми деснами и жмет кулачки. Заодно срисовываю и его тоже. Я не планировал, чтобы у Лены был ребенок, но если он есть, то не надо списывать его со счетов.
Муж достает зажигалку (простую пластмассовую, такую можно купить в любом киоске за пятнадцать рублей). На ней, словно в каком-то полицейском депо, запечатлены отпечатки жирных от пота пальцев. Я добываю из кармана джинсов сомнительно скорченную из газетной бумаги сигарету, неспеша зажигаю ее, раскуриваю. Выдыхаю ароматный такой вкусный дым, в висках немного попискивает, словно кто-то по ним молоточком постукивает. Жду реакции. Она выглядит такой же озадаченной, словно она рассказывала что-то поразительно интересное, а потом ее прервали на полуслове. Он немного отшатывается от моей травки, на лице гримаса брезгливости, готов зажать нос от запаха. Наверняка, возьмет зажигалку из моих грязных рук платком, который обязательно найдется в кармане у такого чистюли и дома выкинет зажигалку в мусорку. Потом отмоет руки в раковине тщательно побрызгав их жидким мылом, словно подержался за бешеную собаку.
- Не хотите? Вы же уже не кормите, значит можно. – Я протягиваю сигарету после первой затяжки рыжей девушке. Она испуганно косится на мужа, как собака, спрашивающая у хозяина разрешение взять кость. Ее муж все еще разыгрывает пантомиму, потому не видит ее взгляда. Да, теперь я уже почти уверен, что он ее поколачивает.
Испуганно берет, как человек, ни разу в жизни не куривший, тем более травку. Да, она похожа на собаку. На рыжего сеттера с длинной вытянутой мордой, внимательными вечно настороженными глазами янтарного цвета. Она пытается затянуться и кашляет. Это не из-за меня она попыталась. Это акт неповиновения.
- Лена! – И смотрит с такой укоризной, словно она только что взяла руками собачье дерьмо.
Меня чуть встряхивает, будто от статического электричества. Я угадал. Интуитивно угадал, что ее зовут Лена.
- Что, Петя? Что? – В голосе вызов. Слабый, но вызов. Я смешиваюсь с асфальтом и вечерними косыми тенями, молчу и рассматриваю себя в битом окне. Я довольно неплохо умею сливаться с поверхностью.
- Ты сама знаешь, что. Отдай ему Это (прям с большой буквы) и пойдем скорее. Ты только недавно закончила кормить!
- Что, Петя? Почему я не могу выкурить сигарету, если мне ее дали?
- Ты же знаешь, что это Очень (тоже с большой буквы) вредно!
Лена откидывает волосы со лба, они у нее ломкие, как солома и отчаянно рыжие.
- Так позволь мне сделать хоть раз в жизни что-нибудь Очень (подражает ему) вредное! – Пытается закурить снова, кашляет и снова пытается. Ее профиль вырезан из жёлто-оранжевой бумаги и наклеен прямо на ее лоб, щеки, нос и подбородок.
Петя что-то раздосадовано мычит. Хотя нет, может, он ее и не бьет. Слишком правильный. Слишком выхолощенный.
Лена курит мою сигарету, давит в себе кашель и снова курит, держа ее между средним и безымянным пальцем, как девушки в старых фильмах.
Я протягиваю Пете зажигалку. Он бормочет, вытирая взмокшие ладони о шорты:
- Оставьте себе.
Я повторяю эту фразу Лене, точно это какой-то безвкусный обмен любезностями и больше ничего. Я начинаю думать строчками. Со мной такое иногда случается, когда сюжет складывается прямо здесь, на месте.
- Вы не пройдетесь? Я бы показал вам парк. - Говорю Лене. Судорожная надежда, что она согласится. Но на лице у меня выражение скучающей лени.
Лена думает какое-то время, солнце полощется на шее. Течет под ее кожей, как божественная кровь из Древнего Египта. Колючие ключицы.
- А почему бы и нет? Довезешь Катеньку домой, спать уложишь. Да, Петя? Хоть это ты можешь сделать?
Петя задышал долго и сопяще, как боевой носорог, и, кажется, готов был растерзать меня и Лену взглядом. Но не сказал ничего. Подхватил коляску и покатил ее вверх по дороге. Лена осталась в нерешительности рядом со мной.
Я молча медленно пошел вслед за ее Петенькой. Она не забегала вперед. Но шла на порядочном отдалении. Пыталась курить. Потом, сообразив, отдала сигарету мне. Она дымилась в руке, больше мне не хотелось курить. На мосту трамвайные рельсы выполаскивало солнцем. Машины расплескивали окрашенную красным жидкость, которой только что мыли мост. Словно солнечная рвота. Я говорю об этом Лене.
- Правда?
Далеко впереди Петя пинает коляску. Мы идем молча и плещемся в солнце. Мы сгораем где-то внутри него, и оплавляемся до головешек. Внизу кипят клены и асфальт. Старый пыльный и растрескавшийся асфальт кипит.
Лена спрашивает, прикрывая рукой глаза от слепящего солнца:
- Вы кто?
- Час Бёрдон
- А кто это?
Я щурюсь на солнце и включаю для нее The house of rising sun. Она слушает сосредоточенно, словно ее заставляют написать сочинение по песне. Мы проходим почти весь мост. Потом под нами грохочет товарняк. Лена слушает. Я представляю, на каком сейчас она куплете, и тушу пальцами сигарету с травкой, после чего кладу ее обратно в карман.
Лена спрашивает:
- А про что они поют?
- Про Новый Орлеан.
- Это где-то в Америке, верно?
Я киваю.
Солнце полощет свои простыни где-то над нами. Брюха позолоченных крокодилов, мерно проплывающих над нашими головами, как диковинные аэростаты, обрызганы разведенным сусальным золотом. Когда песня заканчивается, она мне возвращает проигрыватель. На ее лице написано небольшое смущение наполовину непониманием и желанием не показаться невежливым. Я понимаю для себя одну важную вещь - она стесняется того, что не поняла.
- Кажется, они поют на английском, да? Я учила в школе, но это было поверхностно и довольно давно…
Сколько ей лет? Двадцать два? Двадцать три? Я вижу в тени на оголенных плечах темный загар по рукава футболки.
Я не знаю этого. Мы идем оставшийся промежуток дороги пешком. Я смотрю перед собой, каждой частичкой своего тела отмечая особенности ее походки, чуть косую левую коленку, наманикюреные пальцы в плоских босоножках, немного костлявые лодыжки, несколько родимых пятен на правом локте.
- Вы отдыхаете? – Вопрос как бы с украдкой. Тоже не смотрит на меня, поглощена замысловатыми хитросплетениями линий на асфальте.
Отрицательно мотаю головой.
- Странно, вы не похожи на местного. Ну, прям совсем, совсем не похожи.
- Почему?
- Не знаю. Просто не похожи. Есть в них какое-то наполовину чванливое неудовольствие к отдыхающим. А у вас этого нет.
Она заводит прядь за ухо, с запястья ближе к локтю сползает тесемка с нанизанными на нее маленькими ракушками и яблочными косточками. Это сделал для нее, определенно, не Петя.
- Знаете, как выглядит наш домохозяин, у которого мы с Петей комнату снимаем? Страшный! Руки обвиты якорными веревками вен, кожа красная-красная, морщины, кажется, забились песком – ну, знаете, как трещины в сухой-сухой земле, когда долго дождя не было. Жарит что-то на очень плохом жире, вонь стоит на всю квартиру. Отдыхающие - еще две семьи кроме нас - постоянно жалуется. А ему хоть бы хны. Продал нам собственновырощенный арбуз: «Берите, не пожалеете, у нас и вино есть - вам какое?», а потом Петеньку рвало долго, хорошо, мы с малышкой не пробовали… Но корочка- это сочетание хруста и зелени, полосатость странная, как кошка, свернулся клубочком на столе… у нас в комнате такой замечательный верстак – на нем стоять можно. Вещи класть. И как письменный стол, и доска для глажки…Смешливый, правда, до страха!
- Кто, верстак?
- Да нет же, какой вы непонятливый, хозяин!
Она смеется шорох песка и камешки, прекрасные голые камешки. Зацелованные нежными, как лошадиные губы, морскими волнами. И продолжает.
- Специально хожу на веранду послушать его каждый вечер – знаете, стемнеет быстро, хоть глаз выколи. Красные цветы в темноте фиолетовые, шуршит что-то вдалеке, стрекочет цикады: переругиваются между собой и рассказывают последние сплетни. А звезды! Спорю, вы никогда таких звёзд не видели - куча улиток, насобранных в банку с капусты! Все рожки повысунули, шевелят - довольные. Сверкают. На веранде – старой, замшелой, просторно, виноград плетется, усатый, мохнатый, жаль есть нельзя - кислый, страх! Шезлонги тоже старые, замурзанные, но до чёртиков удобные. Он анекдоты рассказывает и страшные рассказы. Рассказы из серии кто, с какой скалы сиганул от любви, кто-то там в медведя превратился. Гигантского медведя – представляете?! А анекдоты… я, кстати, знаю один: пришли в одно кафе грузин, русский и еврей…
Она снова смеется – снова камешки по песку. Шуршала и звенела своим серебряным, колокольчиковым смехом. Конец анекдота я так и не слышу – она заливается. Как гейзер кипяченой водой – солнце полощется в волосах. В шифоне ее юбки, в нарисованных линиях бровей, капает с кончика носа, по ключицам течет медовой рекой.
Необычно она рассказывает, как ребенок - заливисто и взахлеб, с какими-то странно-прелестными неологизмами - шероховатыми и приятными.
- Кем вы работаете? - Как бы невзначай, как был отголоском. Но я удачно вставляю свою фразу:
- Разношу фрукты. А подрабатываю Господом Богом.
Огорошиваю. Как кривой саблей по воздуху - и дальше иду, слушаю ее изумление. Зацепится или нет? Должна зацепиться.
- Шутите? Нет, сразу так и скажите, если шутите. Или нет. Молчите, я догадалась - вы биолог, да? Белым мышкам хвостики отрезаете? Фу, как вам не стыдно?!
- Я не биолог,- пытаюсь, чтобы выглядело более или менее загадочно. Она смеется снова.
- Вы секретный агент? Тут по заданию ЦРУ? Только молчите - я никому не расскажу вашей тайны!
Я наслаждаюсь всеми извержениями, всеми капелями и летним дождем Лены. Моей Лены. Каждую секунду я узнаю о ней – что новое, что-то, о чем никогда даже догадываться не мог раньше. Нет - оно кружилось тут, где-то в подсознании - сделает шажок изящной туфелькой на границу понимания и тут же снова спрячется - и улыбается так. Хитрит.
- Я писатель.
Она словно смакует мою фразу. Пробует ее кончиком языка. Взвешивает, но всего одно мгновение. Потом снова – камешки по песку:
- Больше ничего не говорите! Вы несчастны и ищете удовольствий! Да! У вас была несчастная любовь! Она была старше вас, не замечала ваших чувств. Она ушла к другому или умерла. Для вас это одно и то же. Вы пишете в стол, вы уже создали что-то вроде Войны и Мира, но издатели отказали вам. Поэтому вы приехали сюда, разносите фрукты и подрабатываете официантом в придорожных кафе, а по вечерам ходите пешком от моря к поезду, по автомобильной магистрали. Ловите людей, в надежде, что они вас вдохновят на создание чего-нибдуь столь же восхитительного. Да? Но ничего не происходит. И вы бредете, облепленный грустным закатом назад. От вокзала к морю. Правильно, я угадала?
- Нет. Но вы продолжайте рассказывать.
Мы бредем по асфальту, вокруг – бесконечные ряды персиковых деревьев. Взрывающихся от переполнявшего их голые втеки солнца, только самые зеленые плоды покачиваются на ветках, довольные и самодостаточные. Даже они исходят багровым пенящимся соком. Вдалеке солнце в облике огнедышащего дракона разметает по всему горизонту синих спрутов. Потом их самозабвенно сжирает, улыбаясь, оно шевелят щупальцами и противятся гибели, а солнце побеждает и довольно медленно тлеет оранжевыми угольками, выпивая по соломинке закипающее море.
Лена говорит о старинных легендах, которые всегда наводили на нее трепет. Душевный: «Знаете, как мнительной маленькой мышке рассказывают о зверствах кота, живущего в другом подъезде», почти сладострастный, почти на грани удовольствия, ужас. Солнечный дракон запутывается в ее волосах, и раздосадованный. Уползает оттуда, оставляя за собой целый шлейф дотлевающих угольков, которые немедленно обращаются в дымчато-синих китов. Те кружат в золотящихся по ка прядях какое-то время, как морские коньки вокруг водорослей. Потом обращаются в улиток и утекали по ее плечам в асфальт. Прячутся.
Небо уже вовсю зажигает огни светлячков, перемигивающихся со звездами. Начинают трещать заунывные цикады (готовы, значит, к спариванию и ищут себе пару). День умирает в мучительных судорогах, заполняя небо ядовито-синим парализующим газом ультрамарина. На западе открывается пара червоточин, досасывающих в себя остатки огненных угольков. Шумят диссонансом прохладной и томительно-душной тенью персики. Вдалеке белеет напряженно - стесненная спина Пети, толкающего перед собой коляску. Воздух дрожит, как будто наглотался угарного газа, как тогда, когда огонь заставляет ленивый воздух трепетать прозрачными бурливыми ленточками, поднимаясь все выше и выше. Только гудения - характерного гудения не хватает.
Мы следуем к морю - синяя лента. Голубая. Белая лента. Потом снова синяя – кто-то их заботливо прогладил утюгом, (старинным таким, в который угли раньше клали) небо - гигантская гладильная доска. Соседние скалы, удрученно падающие в море - это утюги. Швейной иглой трепещут на горизонте легкие дымки. Я говорю об этом Лене. Она слушает. Поджав губы (совсем как ноги, когда сидит на стуле). Смакует. Или притворяется.
По дороге к поселку мы расстаемся. Она не торопится догонять Петеньку. И танцует. То маленькие шажки (семенит балетная ножка, закованная в пуантовый гипс), с неуклюжестью болотной цапли. То резкий мах ногой и пируэт. Интуитивные движения руками - изгибы запястий. Локтей. Предплечий. Плеч, - как будто волны. Она занималась раньше балетом? Движения танго. Заученная схема шагов, расплесканная по ногам юбка, холщовое покрывало недвижных волос. Знает ли она. Что я наблюдаю? Если знает - то это для меня. Если нет…
В ту ночь я не сплю. Я сижу на берегу, смотрю. Как море чернеет, представляю, как она сидит на веранде этого хозяина. Задумчиво подпирая запястьем подбородок, качается в старом шезлонге. А вокруг лампочки крутится броуновское движение мошек и ночных мотыльков. В их номере (небольшой комнатке, одна стена из которой покрыта плешивым ужасающе прекрасным ковром с повылезшей шерстью, вместо двери – тяжелая ткань с восточными мотивами, лампочка без абажура под потолком, две кровати и термиты, подтачивающие само бытие) нервно нарезает круги Петечка. В руках - газета, он ее будто читает. Но думает о Лене. И недоволен ею. Футболка обжала мускулистые предплечья, почти до гинекологического состояния. Мускулы бугрятся, ребенок устал и спит в свой коляске. Над этой лампочкой - тоже шлейф из золотистых мошек, крутящихся вокруг нее каждая в своем ритме.
Я не буду сегодня спать - на пальцах подрагивают будущие слова. Которые так же (ее полу танец полу откровение на дороге - маленькие неловкие шаги на загипсованных пуантах) то покажутся из подсознания, то снова спрячутся. Я нашел Лену. Впервые за полгода я нашел Лену.
Я не написал ни буквы за прошедшую ночь. Лена - такая жива и такая будоражащее прекрасная просто танцевала в моем воображении. Она молчала и лишь… Полотно юбки, расплесканные волосы. Я не мог вспомнить ее лицо. А писать о ней, не помня лица - я не мог так. В три утра, когда в море закипел, заворочался гигантский медведь, стряхнул со своей спины остатки ночной дрёмы, оглушительно зевнул (рокот пронесся над морем, как боевой клич, и прокатился по соседним скалам) и стряхнул со своей толстой водяной шкуры глубокую южную прохладно-томительную черноту, я забрался к храму. Если честно - мое излюбленное место в такие-вот ночи. Просто на скале останки старинных дорических почти греческих колонн - чья-то вилла девятнадцатого столетия. Не подлежащая реставрации. Сюда с туристов берут входную плату - сто или двести рублей, они фотографируются (через белый мрамор, увитый плющом, брызжет солнце, облитые синей краской небеса) у колонн, рядом с пышно наряженными герцогами и баронессами, подрабатывающими местными, одетыми в старинные костюмы, попугаями, обезьянками, и покупают сувениры. Кто-нибдуь обязательно утащит с собой белый мраморный камешек на память. Им же невдомёк, что сюда каждую субботу рано утром завозят и раскидывают камни с ближайших дорог. Такая уловка для туристов. Разумеется, в четыре утра я тут сижу бесплатно. Подо мной тихо вздыхает море. Вздыхает полной грудью, окаймленной пенистым кринолином кружев, маслинно-черное у берегов, растекается почти к бирюзовому к месту слияния с небом. Небо дрожит, - медведь же ворочается, как туго натянутая струна арфы. На небе начинают тихо гаснуть звезды - скромно поднимают полог мироздания, и, неслышно топая в безвестности, уходят со сцены.
Дина Бурсакова, 16 лет, Новосибисрк
Рейтинг: 1
Комментарии ВКонтакте
Комментарии
Добавить сообщение
Связаться с фондом
Вход
Помощь проекту
 |
Сделать пожертвование через систeму элeктронных пeрeводов Яndex Деньги на кошeлёк: 41001771973652 |