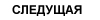Погорелец
Желтое солнце купалось в золотом море нескошеной пшеницы. Оттуда, где так заманчиво маячит неприступная ниточка горизонта, стелется тропинкой притоптанные легкой ножкой колосья. Она змейкой вьется за бегущим мальчишкой, что высоко вздымает не окрепшую еще грудь от продолжительного бега. Там, где берет начало его узенькая тропинка, вьется что-то черное, мутное, страшное…
Он бежит, далеко назад забросив голову, и норовит во что бы то ни стало успеть перескочить уже гудящие от приближающегося поезда рельсы. Его спекшиеся, искривленные беглой судорогой губы что-то быстро шепчут. Вот он споткнулся и выронил из дрожащих рук небольшой сверток. Он заколебался… Стиснул редкие молочные зубы и вернулся, подобрал свой кулек, который всю дорогу бережно прижимал к себе. Поезд опередил его. Мальчонка встал около рельсов, захлебываясь гулкими рыданиями, размазывал тонкой ручонкой по грязной зареванной мордашке крупные гроздья неугомонных слез. Он стоял, провожая взглядом безысходности зеленые вагоны. А мимо все вагоны, вагоны … Вагоны бежали мутным зацветшим ручьем, бездушно таращили на него свои пустые стеклянные глаза и равнодушно скользили мимо, унося с собою вдаль отражение небывалого отчаянья. Они не ввязывались в чужое горе… И вот уже спешит вдаль последний вагон… И путь теперь свободен… Испуганное дитя вновь срывается и бежит…
Он бежал без оглядки от настигавшего горя. Он не понимал, что это горе не гонится за ним, оно уже поселилось у него внутри, грызет острыми зубами чуть теплую от ужаса душу, не дает дышать. Мальчик задыхался. Упал и, бережно прижимая к себе пропахшее дымом и гарью одеяльце, пополз по нехоженой шершавой траве под одинокий куст старого полусгнившего шиповника. Ребенок, не помня себя, долго пролежал под колючими ветвями, совсем не ощущая плавного неутомимого хода времени. Под защитой когтистых, одичавших и огрубевших от одиночества, сухих, не умеющих ласкать веток до позднего вечера пролежал комочком мальчишка, судорожно перебирая в памяти все ужасающие картины, писанные злорадствующим огнем, все крепче и крепче прижимая к щупленькому тельцу свою драгоценную ношу.
В детском впечатлительном сознании стали беспорядочно всплывать душераздирающие моменты его маленькой, совсем коротенькой жизни. Ему было-то всего семь годков…
… – Федоткааа, пойдем со мной на стога ночевать? – звал будто наяву своим звонким голосом Сашка-пастух. – Мне одному, ухх, скучно!..
В памяти мальчугана вспыхнула искра страха, и он снова пережил тот давящий страх затравленной, загнанной в угол лисицы, которая неподвижно, с распахнутыми от ужаса глазами ждет своей участи; сидит, как парализованная, как цепями прикованная, как замороженная…
Все началось внезапно, будто холодный осенний ветер с дикой силой и остервенением распахивает плотно закрытую ставню, неистово треплет ее, срывает с петель, выворачивает… А потом, излив злобу, бросает ее, успокаивается. Так было и здесь. С севера нахрапом налетела огненная стена. Она напоминала утреннюю гладь местной реки, сплошь залитую лучами только народившегося солнца. Гудящая масса рухнула плашмя прямо на все три ряда маленьких обветшалых домов заброшенной судьбой деревеньки. Она навалилась и стала пожирать все, с хрустом раскусывала крыши, дробила бревна, плевалась смоляным дымом. Все схватилось одним пылающим шаром смерти, светившим в ночи, словно маяк далеким кораблям. Беда застала людей врасплох. Старенькие ссохшиеся дома горели, как спички, рушились, заживо хоронили людей.
На ближнем пригорке, откуда вся деревня видна, как на ладони, сидел Федотка и наблюдал чудовищное зрелище. Он сидел в железных объятиях паники и не мог даже шелохнуться. И Сашка, как назло, за водой ушел. Ни единой мысли не было в голове у одинокого маленького зрителя, он просто наблюдал, не в силах ни убежать, ни спрятаться. Детская наблюдательность брала верх. Он видел, как огонь в беспощадной схватке сражался с полураздетым мужиком, повалил его с ног и уже победителем взобрался на спину проигравшего.
Случайный свидетель зверского зрелища видит, как в разъеме окна крайнего дома в исступленье мечется молодая женщина. Она дико, неугомонно танцует в крепких объятьях алого пламени. Вдруг из ее уст вырывается нечеловеческий крик. Так люди не могут кричать!!! Она всплеснула руками, будто удивилась чему-то, дико, по-звериному выпучила глаза и растворилась среди лижущих языков яркого пламени.
«А ведь я знал ее, она всегда угощала меня ароматными садовыми ранетками…» – мелькнуло в застывшем подсознании.
Возле бабушкиного дома березка, престарелая березка судорожно корчилась под ласками ненасытного огня, стыдливо опустив полинявшую обгорелую голову. Она вдруг резко наклонилась на бок и медленно, степенно стала падать. Она извивалась под жгучими языками пламени. Своими голыми ветвями, будто кривыми костлявыми пальцами, царапала закопченную бревенчатую стену, но молчала: ни стона, ни крика, только треск раздиравшегося на ней пятнистого сарафана.
«Маманина березка, кажись…»
Из соседнего дома предсмертным воем разрывалась собака. Она не пыталась бежать от этого ревущего, подминающего, уничтожающего все на своем пути огненного смерча. Она лежала на теплой земле рядом с навзничь упавшим хозяином, уткнув свою мохнатую морду в неестественно вывернутую, обезображенную безжалостным огнем ладонь. Ее шерсть медленно тлела на ветру. При свете зарева видны были две влажные дорожки на обвислых щеках. В глазах постоянно скапливались крупные слезы преданности, безысходности и отчаянья.
«Да, это ж Симка, Симка надрывается!..»
Этот режущий слух собачий визг подстегнул без того обуздавший ребенка страх, он будто схватил Федотку за плечи и встряхнул с такой силой, что ослабли кандалы, сковывающие все его движения. И он сорвался, рванулся и побежал. Побежал, глотая соленые слезы, немым криком моля о помощи. Проносясь мимо дома, хоронившего Симку и ее хозяина, беглец услышал тихий писк где-то сбоку, совсем рядом. На траве догорало старое одеяло, а под ним что-то, кряхтя, копошилось. Он затоптал огонек, схватил закутанное в мешок живое существо, прижал к себе и помчался, охваченный паникой, не в силах остановиться, отдышаться.
Его деревня была уже далеко, солнце стояло в зените, а он все бежал, бежал, прижимая к себе единственный живой комочек, завернутый в голубой лоскут почти сожженного одеяльца. Он бежал, как будто его настигало то бушующее пламя, похожее на морской шторм, который ни укротить нельзя, ни избежать, ни предупредить. Он совершенно точно знал, что он один единственный на всем белом свете остался, и нет у него никого, кроме вот этого маленького бьющегося между его ладоней сердечка…
И вот лежит теперь Федотка под кустом, смотрит на ночное небо. Звезд совсем не видно. Весь небосклон обложило тучами. Вокруг не видно ни зги. Где-то далеко начала бузовать молния. Широкими шагами она мерила пространство над головой; подходила все ближе, ближе. Гроза громыхала бесплодно, злилась сама на себя, захлебывалась неумолкающим грохотом и отходила в сторону, на край пахучего луга.
Совсем рядом старый лес лохматил ветер. И звук этот показался таким родным, таким знакомым. Малец закрыл глаза, наслаждаясь шорохом листвы, и перед глазами его встали деревенские бабы, которые рано поутру, стоя на мостках, полоскали в реке свежевыстиранное белье, и сами тонули в молочном мягком текучем тумане, взлелеянном утренним ласковым ветром.
Утро густо расстелило серебристую росу. Веселым румянцем розовело небо на востоке. Где-то над плешивой головой старого леса звучно перебранивались молодые щеглы. У самого носа Федотки на благоухающий стебель душистой кашки опустилась пестрая бабочка. Она горделиво любовалась своим нарядом в зеркале росы. Она последний раз повела тонким почти прозрачным крылом и тихо, совсем беззвучно, стала перелетать с цветка на цветок, торопясь навстречу солнцу. Детские глазенки завороженно провожали это чудесное создание, пока оно совсем не затерялось среди густой зелени луга. И все вокруг так спокойно… Ничто здесь даже не подозревает о громоздком горе, ютившемся в хрупкой детской душе.
Из синего тряпичного кулечка высунулся влажный теплый нос. Легкий ветерок нежно качнул цветок, и маленькую мохнатую мордашку золотой россыпью покрыла ароматная пыльца, невзначай поднятая ветром. И впервые после пережитого кошмара мальчик растворился в звонком счастливом смехе. И с этим смехом у него внутри будто что-то надломилось, треснуло. Он еще раз взглянул на мелкие цветочки и удивился необычайной схожести милого, безобидного и по-детски наивного цветка и того желтого беспощадного зарева, которое памятью все еще жгло изнутри, теснило маленькое сердечко. Он заметил, как тонкая радужная нить паутинки плавно тянется от самого неба к нежному цветку, немного содрогаясь от еле заметного ветерка. И оранжевые краски пожара поблекли в памяти Федотки, их постепенно стали вытеснять картины безмятежного и несокрушимого природного спокойствия…
– Эй, сынок, ты чей такой будешь? – раздался старческий, но крепкий голос со стороны леса.
– Я ничей, – хрипло отозвался мальчик.
– Как тебя хоть звать-то? – спросил старик, поднимая ребятенка за локоток. – Чего-й там у тебя такое? Пойдем-ка ко мне.
– Федотка я… – тихо молвил паренек, вставая. – А это, - он задумался. В памяти воскрес прощальный клич Симки. – А это – Симка.
Он молча разглядывал старика. На нем был длинный болотного цвета плащ, высокие сапоги, густая совсем уже седая курчавая борода и такие мягкие грустные глаза.
– А я-то дед Терентий. Я лесник. И отец мой лесником был, и дед. Вот и мне по иронии судьбы тоже пришлось… Кхе… Всяко уходил я от этого, а вот душа-то, душа покоя нигде не находила, обратно в лес просилась. Вот и вернулся я… Последним я буду лесником. Некому после меня. Бобылем я всю жизнь промаялся, – вздохнул тяжко. – А вон и дом мой. Пошли, пошли… У меня тут все спокойно, правда, деревьев сухих многовато стало, – он скользнул глазами вверх по стволу совсем трухлявой сосны. – А так, в общем, ничего. Ты заходи, заходи, не стесняйся. Да, не бойся ты, не съем! – весело усмехнулся дед. – Ну, давай, теперь ты рассказывай-показывай, что да как.
Сначала неуверенно начал Федотка свой рассказ, а потом проникся доверием к деду Терентию и выложил все, как на духу и развернул голубой лоскут. Там маленьким клубочком лежал щупленький, только открывший глазки щенок. Его ушки и хвост немножко обгорели. Сам он был облезлый, весь в репьях. Теперь этот грязный ободранный малыш – самое родное и близкое, что есть у мальчика. Они вместе чуть не потеряли жизнь и вместе обрели надежду. Пожалел их лесник и предложил:
– Оставайтесь-ка пока у меня, ты пособишь, где сможешь. А намедни мы с тобой в деревню твою наведаемся, глянем глазком одним, а там и видно будет.
Нарочно старик долго не вел своего гостя в деревню – рана детской души еще глубока была. Да Федотка сильно и не спрашивал, понимал, живых-то никого не осталось, все на его глазах погорели…
Быстро пролетела зима. Мальчонка окреп, поправился, с удовольствием вникал в дела деда Терентия. Симка из маленького, скулящего, облезлого комочка превратилась в стройную, на высоких лапах, благородного темно-русого цвета, совсем еще молодую и игривую борзую, которая ни на шаг не отходила от своего спасителя, сразу видно – еще старой Симки последыш. И по весне решился дед сходить в родную сторону его названного внука.
Скрипя сердцем, как дуб на морозе, он молча держал ребенка за руку всю дорогу.
Еще издали узнал малец свой пригорок, вприпрыжку взбежал на него…
На пепелище беспутно хозяйничал ветер… Черными уродливыми кучами смотрели обезображенные остатки домов… Где-то под чуть огрубевшим детским сердцем что-то кольнуло и отпустило…
Сзади тихонько, еле-еле взбирался дед. Он понимал, что есть шансы. Может, кто-то и выжил… И тогда… Он не хотел расставаться, он только что понял, каково это: заботиться, опекать, поучать… Он только что обрел настоящую жизнь…
Перед его глазами появились две горделиво поднятые головы. Он встал немного позади, не вмешиваясь в их глубокомысленное молчание. Вдруг темноволосый Федотка медленно повернулся всем телом, пристально посмотрел в старые грустные глаза, окруженные паутинкой мелких глубоких морщинок, и так серьезно сказал:
– Знаешь что, деда?..
Оглянулся на свою собаку, посмотрел лукавыми глазами и как закричит:
– А, ну-ка, деда, догони! Эге-ге-ге-гей, Симка!!! – и помчался под гору, весело закатываясь заливистым смехом.
А дед Терентий все понял – не открылась старая детская рана, замшела совсем.
– Эх, погорельцы вы мои! Такая отрада на старости лет… – Ноги подкашивались от тихого дедовского счастья. Старик сел на молодую хрупкую траву, украдкой смахнул слезу радости и облегчения, глядя на своих разыгравшихся домочадцев, – как же хорошо, что детская душа обладает такой необычайной упругостью!..
Он бежит, далеко назад забросив голову, и норовит во что бы то ни стало успеть перескочить уже гудящие от приближающегося поезда рельсы. Его спекшиеся, искривленные беглой судорогой губы что-то быстро шепчут. Вот он споткнулся и выронил из дрожащих рук небольшой сверток. Он заколебался… Стиснул редкие молочные зубы и вернулся, подобрал свой кулек, который всю дорогу бережно прижимал к себе. Поезд опередил его. Мальчонка встал около рельсов, захлебываясь гулкими рыданиями, размазывал тонкой ручонкой по грязной зареванной мордашке крупные гроздья неугомонных слез. Он стоял, провожая взглядом безысходности зеленые вагоны. А мимо все вагоны, вагоны … Вагоны бежали мутным зацветшим ручьем, бездушно таращили на него свои пустые стеклянные глаза и равнодушно скользили мимо, унося с собою вдаль отражение небывалого отчаянья. Они не ввязывались в чужое горе… И вот уже спешит вдаль последний вагон… И путь теперь свободен… Испуганное дитя вновь срывается и бежит…
Он бежал без оглядки от настигавшего горя. Он не понимал, что это горе не гонится за ним, оно уже поселилось у него внутри, грызет острыми зубами чуть теплую от ужаса душу, не дает дышать. Мальчик задыхался. Упал и, бережно прижимая к себе пропахшее дымом и гарью одеяльце, пополз по нехоженой шершавой траве под одинокий куст старого полусгнившего шиповника. Ребенок, не помня себя, долго пролежал под колючими ветвями, совсем не ощущая плавного неутомимого хода времени. Под защитой когтистых, одичавших и огрубевших от одиночества, сухих, не умеющих ласкать веток до позднего вечера пролежал комочком мальчишка, судорожно перебирая в памяти все ужасающие картины, писанные злорадствующим огнем, все крепче и крепче прижимая к щупленькому тельцу свою драгоценную ношу.
В детском впечатлительном сознании стали беспорядочно всплывать душераздирающие моменты его маленькой, совсем коротенькой жизни. Ему было-то всего семь годков…
… – Федоткааа, пойдем со мной на стога ночевать? – звал будто наяву своим звонким голосом Сашка-пастух. – Мне одному, ухх, скучно!..
В памяти мальчугана вспыхнула искра страха, и он снова пережил тот давящий страх затравленной, загнанной в угол лисицы, которая неподвижно, с распахнутыми от ужаса глазами ждет своей участи; сидит, как парализованная, как цепями прикованная, как замороженная…
Все началось внезапно, будто холодный осенний ветер с дикой силой и остервенением распахивает плотно закрытую ставню, неистово треплет ее, срывает с петель, выворачивает… А потом, излив злобу, бросает ее, успокаивается. Так было и здесь. С севера нахрапом налетела огненная стена. Она напоминала утреннюю гладь местной реки, сплошь залитую лучами только народившегося солнца. Гудящая масса рухнула плашмя прямо на все три ряда маленьких обветшалых домов заброшенной судьбой деревеньки. Она навалилась и стала пожирать все, с хрустом раскусывала крыши, дробила бревна, плевалась смоляным дымом. Все схватилось одним пылающим шаром смерти, светившим в ночи, словно маяк далеким кораблям. Беда застала людей врасплох. Старенькие ссохшиеся дома горели, как спички, рушились, заживо хоронили людей.
На ближнем пригорке, откуда вся деревня видна, как на ладони, сидел Федотка и наблюдал чудовищное зрелище. Он сидел в железных объятиях паники и не мог даже шелохнуться. И Сашка, как назло, за водой ушел. Ни единой мысли не было в голове у одинокого маленького зрителя, он просто наблюдал, не в силах ни убежать, ни спрятаться. Детская наблюдательность брала верх. Он видел, как огонь в беспощадной схватке сражался с полураздетым мужиком, повалил его с ног и уже победителем взобрался на спину проигравшего.
Случайный свидетель зверского зрелища видит, как в разъеме окна крайнего дома в исступленье мечется молодая женщина. Она дико, неугомонно танцует в крепких объятьях алого пламени. Вдруг из ее уст вырывается нечеловеческий крик. Так люди не могут кричать!!! Она всплеснула руками, будто удивилась чему-то, дико, по-звериному выпучила глаза и растворилась среди лижущих языков яркого пламени.
«А ведь я знал ее, она всегда угощала меня ароматными садовыми ранетками…» – мелькнуло в застывшем подсознании.
Возле бабушкиного дома березка, престарелая березка судорожно корчилась под ласками ненасытного огня, стыдливо опустив полинявшую обгорелую голову. Она вдруг резко наклонилась на бок и медленно, степенно стала падать. Она извивалась под жгучими языками пламени. Своими голыми ветвями, будто кривыми костлявыми пальцами, царапала закопченную бревенчатую стену, но молчала: ни стона, ни крика, только треск раздиравшегося на ней пятнистого сарафана.
«Маманина березка, кажись…»
Из соседнего дома предсмертным воем разрывалась собака. Она не пыталась бежать от этого ревущего, подминающего, уничтожающего все на своем пути огненного смерча. Она лежала на теплой земле рядом с навзничь упавшим хозяином, уткнув свою мохнатую морду в неестественно вывернутую, обезображенную безжалостным огнем ладонь. Ее шерсть медленно тлела на ветру. При свете зарева видны были две влажные дорожки на обвислых щеках. В глазах постоянно скапливались крупные слезы преданности, безысходности и отчаянья.
«Да, это ж Симка, Симка надрывается!..»
Этот режущий слух собачий визг подстегнул без того обуздавший ребенка страх, он будто схватил Федотку за плечи и встряхнул с такой силой, что ослабли кандалы, сковывающие все его движения. И он сорвался, рванулся и побежал. Побежал, глотая соленые слезы, немым криком моля о помощи. Проносясь мимо дома, хоронившего Симку и ее хозяина, беглец услышал тихий писк где-то сбоку, совсем рядом. На траве догорало старое одеяло, а под ним что-то, кряхтя, копошилось. Он затоптал огонек, схватил закутанное в мешок живое существо, прижал к себе и помчался, охваченный паникой, не в силах остановиться, отдышаться.
Его деревня была уже далеко, солнце стояло в зените, а он все бежал, бежал, прижимая к себе единственный живой комочек, завернутый в голубой лоскут почти сожженного одеяльца. Он бежал, как будто его настигало то бушующее пламя, похожее на морской шторм, который ни укротить нельзя, ни избежать, ни предупредить. Он совершенно точно знал, что он один единственный на всем белом свете остался, и нет у него никого, кроме вот этого маленького бьющегося между его ладоней сердечка…
И вот лежит теперь Федотка под кустом, смотрит на ночное небо. Звезд совсем не видно. Весь небосклон обложило тучами. Вокруг не видно ни зги. Где-то далеко начала бузовать молния. Широкими шагами она мерила пространство над головой; подходила все ближе, ближе. Гроза громыхала бесплодно, злилась сама на себя, захлебывалась неумолкающим грохотом и отходила в сторону, на край пахучего луга.
Совсем рядом старый лес лохматил ветер. И звук этот показался таким родным, таким знакомым. Малец закрыл глаза, наслаждаясь шорохом листвы, и перед глазами его встали деревенские бабы, которые рано поутру, стоя на мостках, полоскали в реке свежевыстиранное белье, и сами тонули в молочном мягком текучем тумане, взлелеянном утренним ласковым ветром.
Утро густо расстелило серебристую росу. Веселым румянцем розовело небо на востоке. Где-то над плешивой головой старого леса звучно перебранивались молодые щеглы. У самого носа Федотки на благоухающий стебель душистой кашки опустилась пестрая бабочка. Она горделиво любовалась своим нарядом в зеркале росы. Она последний раз повела тонким почти прозрачным крылом и тихо, совсем беззвучно, стала перелетать с цветка на цветок, торопясь навстречу солнцу. Детские глазенки завороженно провожали это чудесное создание, пока оно совсем не затерялось среди густой зелени луга. И все вокруг так спокойно… Ничто здесь даже не подозревает о громоздком горе, ютившемся в хрупкой детской душе.
Из синего тряпичного кулечка высунулся влажный теплый нос. Легкий ветерок нежно качнул цветок, и маленькую мохнатую мордашку золотой россыпью покрыла ароматная пыльца, невзначай поднятая ветром. И впервые после пережитого кошмара мальчик растворился в звонком счастливом смехе. И с этим смехом у него внутри будто что-то надломилось, треснуло. Он еще раз взглянул на мелкие цветочки и удивился необычайной схожести милого, безобидного и по-детски наивного цветка и того желтого беспощадного зарева, которое памятью все еще жгло изнутри, теснило маленькое сердечко. Он заметил, как тонкая радужная нить паутинки плавно тянется от самого неба к нежному цветку, немного содрогаясь от еле заметного ветерка. И оранжевые краски пожара поблекли в памяти Федотки, их постепенно стали вытеснять картины безмятежного и несокрушимого природного спокойствия…
– Эй, сынок, ты чей такой будешь? – раздался старческий, но крепкий голос со стороны леса.
– Я ничей, – хрипло отозвался мальчик.
– Как тебя хоть звать-то? – спросил старик, поднимая ребятенка за локоток. – Чего-й там у тебя такое? Пойдем-ка ко мне.
– Федотка я… – тихо молвил паренек, вставая. – А это, - он задумался. В памяти воскрес прощальный клич Симки. – А это – Симка.
Он молча разглядывал старика. На нем был длинный болотного цвета плащ, высокие сапоги, густая совсем уже седая курчавая борода и такие мягкие грустные глаза.
– А я-то дед Терентий. Я лесник. И отец мой лесником был, и дед. Вот и мне по иронии судьбы тоже пришлось… Кхе… Всяко уходил я от этого, а вот душа-то, душа покоя нигде не находила, обратно в лес просилась. Вот и вернулся я… Последним я буду лесником. Некому после меня. Бобылем я всю жизнь промаялся, – вздохнул тяжко. – А вон и дом мой. Пошли, пошли… У меня тут все спокойно, правда, деревьев сухих многовато стало, – он скользнул глазами вверх по стволу совсем трухлявой сосны. – А так, в общем, ничего. Ты заходи, заходи, не стесняйся. Да, не бойся ты, не съем! – весело усмехнулся дед. – Ну, давай, теперь ты рассказывай-показывай, что да как.
Сначала неуверенно начал Федотка свой рассказ, а потом проникся доверием к деду Терентию и выложил все, как на духу и развернул голубой лоскут. Там маленьким клубочком лежал щупленький, только открывший глазки щенок. Его ушки и хвост немножко обгорели. Сам он был облезлый, весь в репьях. Теперь этот грязный ободранный малыш – самое родное и близкое, что есть у мальчика. Они вместе чуть не потеряли жизнь и вместе обрели надежду. Пожалел их лесник и предложил:
– Оставайтесь-ка пока у меня, ты пособишь, где сможешь. А намедни мы с тобой в деревню твою наведаемся, глянем глазком одним, а там и видно будет.
Нарочно старик долго не вел своего гостя в деревню – рана детской души еще глубока была. Да Федотка сильно и не спрашивал, понимал, живых-то никого не осталось, все на его глазах погорели…
Быстро пролетела зима. Мальчонка окреп, поправился, с удовольствием вникал в дела деда Терентия. Симка из маленького, скулящего, облезлого комочка превратилась в стройную, на высоких лапах, благородного темно-русого цвета, совсем еще молодую и игривую борзую, которая ни на шаг не отходила от своего спасителя, сразу видно – еще старой Симки последыш. И по весне решился дед сходить в родную сторону его названного внука.
Скрипя сердцем, как дуб на морозе, он молча держал ребенка за руку всю дорогу.
Еще издали узнал малец свой пригорок, вприпрыжку взбежал на него…
На пепелище беспутно хозяйничал ветер… Черными уродливыми кучами смотрели обезображенные остатки домов… Где-то под чуть огрубевшим детским сердцем что-то кольнуло и отпустило…
Сзади тихонько, еле-еле взбирался дед. Он понимал, что есть шансы. Может, кто-то и выжил… И тогда… Он не хотел расставаться, он только что понял, каково это: заботиться, опекать, поучать… Он только что обрел настоящую жизнь…
Перед его глазами появились две горделиво поднятые головы. Он встал немного позади, не вмешиваясь в их глубокомысленное молчание. Вдруг темноволосый Федотка медленно повернулся всем телом, пристально посмотрел в старые грустные глаза, окруженные паутинкой мелких глубоких морщинок, и так серьезно сказал:
– Знаешь что, деда?..
Оглянулся на свою собаку, посмотрел лукавыми глазами и как закричит:
– А, ну-ка, деда, догони! Эге-ге-ге-гей, Симка!!! – и помчался под гору, весело закатываясь заливистым смехом.
А дед Терентий все понял – не открылась старая детская рана, замшела совсем.
– Эх, погорельцы вы мои! Такая отрада на старости лет… – Ноги подкашивались от тихого дедовского счастья. Старик сел на молодую хрупкую траву, украдкой смахнул слезу радости и облегчения, глядя на своих разыгравшихся домочадцев, – как же хорошо, что детская душа обладает такой необычайной упругостью!..
Неволина Юлия, 17 лет, Барнаул
Рейтинг: 2
Комментарии ВКонтакте
Комментарии
Добавить сообщение
Связаться с фондом
Вход
Помощь проекту
 |
Сделать пожертвование через систeму элeктронных пeрeводов Яndex Деньги на кошeлёк: 41001771973652 |